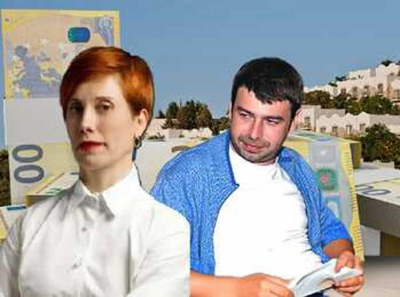Поручик Глеб Котельников
Глеб Евгеньевич Котельников — драматург, актёр и изобретатель. Создатель первого авиационного ранцевого парашюта.
7 октября 1910 года на Комендантском поле в Санкт-Петербурге собралась огромная толпа. Все заворожённо смотрели вверх. Там, в облаках, поднимаясь всё выше и выше, кружил настоящий аэроплан. Все знали, что за его рычагами знаменитый офицер — Лев Макарович Мациевич. На этом «Празднике воздухоплавания» — первом в российской истории авиашоу он уже поставил несколько небесных рекордов. И в этот день собирался превзойти свой же собственный предел высоты. Его громоздкий биплан «Фарман-4» постепенно превращался в точку. Но вдруг самолёт покачнулся, вздрогнул и стал прямо в воздухе разваливаться на части. От крыльев отделился силуэт человека и камнем полетел вниз. Публика охнула… Первый авиасмотр обернулся первой авиакатастрофой.
Среди зрителей был пока ещё никому неизвестный актёр драматической труппы петербургского Народного дома Глеб Котельников. Бывший военный совсем недавно переехал в столицу, чтобы посвятить себя искусству. Не отрывая глаз, мужчина сквозь слёзы смотрел туда, куда рухнули обломки машины. Отставной поручик и прежде видел смерть, но эта ударила в самое сердце.
Различными техническими устройствами он увлекался с детства. Это ему от отца перешло — тот был профессором механики и высшей математики. Ну а мать наградила мальчика творческой страстью. Отсюда — игра на скрипке, пение и театр. Парень выбирал куда поступить: в технологический институт или в консерваторию. Но поступил на военные курсы Киевского пехотного училища, которые окончил с отличием.
Впоследствии, служа артиллеристом, Глеб Евгеньевич в первый раз задумался о беззащитности человека, находящегося на большой высоте. Он удивлялся мужеству наблюдателей, следящих за обстановкой с аэростатов. Случись что, из всех средств спасения — только гигантские зонты, приделанные к корпусам воздушных судов. В экстренной ситуации такое громоздкое устройство нужно было успеть открепить, раскрыть и затем планировать с неба, молясь, чтобы ветром не унесло. После трагедии на Комендантском поле, Глеб Котельников дал себе такое техзадание:
Свою небольшую комнату Котельников превратил в мастерскую. Около года его чертежи он один за другим отправлялись в корзину. Но вот однажды, на репетиции спектакля «Преступление и наказание», где Глеб Евгеньевич играл Свидригайлова, произошло следующее: его партнёрша по сцене вынула из ридикюля крохотный матерчатый комочек. Изящный взмах — и он мгновенно развернулся в большой, роскошный шёлковый платок. Котельникова осенило — спасительный купол должен быть непременно из шёлка. А сложить его можно будет прямо в лётный шлем.
Работа в мастерской закипела. Кроился материал, рождалась система креплений и строп. Но шлем получался несуразно огромным. Жена — художница подсказала:
И уже через месяц парашют был готов. Испытывать устройство поехали всей семьёй. Для этого выбрали глухое место под Новгородом. Ведь лишние глаза, когда дело касается изобретений военного значения, конечно, никому не были нужны. Котельников сделал воздушного змея. На него посадил манекен с парашютом. Рывок за бечевку, купол раскрылся и войлочный десантник, утяжелённый камнями, благополучно спланировал вниз. Устройство работало безотказно. Изобретатель назвал его «РК-1» — «Русский Котельникова первый». Окрылённым он вернулся в Санкт-Петербург. Написал письмо Министру:
Казалось, впереди триумф русской инженерной мысли. Но ответ из военного ведомства обескуражил.
Но Глеб Котельников сдаться не мог. Много времени и сил потратил он, добиваясь полноценных испытаний. Бросил театр — остался без заработка, залез в долги, чтобы сделать новый опытный образец парашюта. И в конце концов победил. Первое, что увидела комиссия, как автомобиль, разогнавшийся до 80 километров в час, заглох, не в силах совладать с сопротивлением шёлковой ткани. Прямо тогда военный изобретатель предложил использовать это свойство для торможения самолётов. Но сопротивление властей опять преодолеть не получилось. Спустя много лет воздушный способ торможения запатентуют американцы, выдав его за своё ноу-хау.
А парашюту «РК-1» ждать своего часа пришлось до Первой мировой. Только с появлением бомбардировщиков «Илья Муромец» об изобретении Котельникова (который, к слову, сразу вернулся в армию) вспомнили в руководстве фронтом. Впрочем, даже тогда дело ограничилось выпуском всего лишь семидесяти экземпляров. Сам же изобретатель служил теперь в железнодорожных войсках. И хотя непосредственно в боях не участвовал, за отличия и усердие был удостоен двух орденов Святого Станислава.
Прошло ещё несколько лет. Отгремела революция, осталась в прошлом гражданская война. Советское правительство отнеслось к Котельникову благосклонно. В Петрограде ему выделили кабинет и дали возможность работать над модернизацией своего парашюта. В 1923 году он создаёт новую модель «РК-2», через год — ещё одну, уже с лёгким матерчатым ранцем. Тогда же Котельников придумал и грузовой вариант устройства, способный выдерживать до трёхсот килограммов. Однако в те времена применения ему не нашли. Получается, русский изобретатель опять опередил время.
30-е годы в Советской армии ознаменовались рождением нового рода войск — воздушно-десантных. Белоснежные купола крылатой пехоты распустились над военным полигонами. И Глеб Евгеньевич лично ездил на учения, чтобы понимать, как дальше совершенствовать наш русский парашют. Интересно, что до сих пор все парашютные системы создаются на принципах, придуманных им. А к могиле Котельникова на Новодевичьем кладбище вот уже 80 лет приходят десантники всего мира. Они оставляют «тявочки» — разноцветные ленты для затяжки тех самых рюкзаков, от которых зависит жизнь…
Слушайте программу «Офицеры» в эфире Радио ЗВЕЗДА.