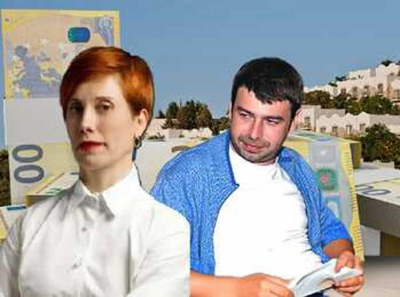Фонограмма вместо правды: как телевидение потеряло голос и заменило его песней
Здравствуйте! Телевизор сошёл с ума. И нет — это не метафора, а диагноз, который ставишь после третьего подряд выходного, когда экран превращается в бесконечное караоке. Я многое в жизни видел: репетиции до утра, закулисные споры о декорациях, телеэфирные авралы — но то, что происходит сейчас, выглядит как системная деградация вкуса и смысла. Петь начали все — и не потому что они талантливы, а потому что на экране нельзя просто молчать. Молчащий телевизор пугает. А если вещь пугает, её заполняют музыкой, иначе кто же тогда останется у пульта?
Дорогие читатели, перед тем, как начать обсуждение, очень вас прошу подписаться на мой канал "Записки актёра" в Телеграме. Там моя основная площадка, и все актуальные новости, рубрики и посты выходят в ТГ приоритетно. Вы очень поможете и поддержите меня, подписавшись. А ещё я выпускаю спектакль. Приглашаю вас и очень хочу чтобы вы его увидели. (Осталось всего 5 билетов). Вся информация о нём тоже в ТГ. Спасибо огромное! Переходим к теме.
Поют актёры, блогеры, ведущие, спортсмены, депутаты — список можно продолжать до бесконечности. Люди, которых раньше, может, и приглашали поделиться жизненным опытом, теперь зовут на «Ну-ка, все вместе!» или «Точь-в-точь». Звёзды кино исполняют шлягеры, ведущие норовят запеть прямо в прямом эфире, политики поют гимны единства между рекламными паузами. Это выглядит, как будто профессиональные границы стерты — не потому, что это разумная эволюция формата, а потому что эфир утратил идею.
Когда-то музыкальные передачи были событием: искренне — или хотя бы амбициозно — искали новое, открывали голоса, давали шанс. Сейчас музыкальные шоу — это скорей фон, чтобы не казалось, что канал остался без контента. Как только появляется микрофон, сразу кажется, что спасение рейтинга найдено. Парадокс в том, что зритель устал от однообразных номеров, но телевизионщики продолжают повторять старую формулу: блёстки + фонограмма = успех. Аудитория не глупа: она видит, когда эмоция срежиссирована до автоматизма.
В чём корень проблемы? На мой взгляд, он не только в лени продюсеров или в желании быстро наварить на хайпе. Это результат нескольких факторов, которые пересеклись и дали странный симбиоз — мелодичный, но мёртвый.
Первый фактор — экономический. Музыкальные форматы легко продаются рекламодателям: ярко, динамично, зрелищно, короткие рекламные паузы между номерами — идеальный товар. Во вторник было бы трудно продать унылый разговорный формат о культуре, зато пятничное караоке — пожалуйста. Реклама любит эффект и простые метки. Поэтому продюсеры поливают эфир «звёздными» сольниками — это дешёвое решение, которое вроде как приносит видимость активности.
Второй — индустриальные связи. Телевизор давно превратился в фабрику взаимных услуг: артисты поют на шоу, шоу дают артистам видимость, агентства кружатся вокруг появления в кадре. В такой системе важнее не открытие и не качество, а взаимный обмен: ты пришёл ко мне — я приду к тебе. В результате экран превращается в круговорот знакомых лиц и уже не вызывает доверия. Зритель видит те же физиономии, те же приёмы, те же «потрясающие» эмоции, отрепетированные до автоматизма.
Третий — цифровая конкуренция и стремление к лайкам. Телевидение перестало быть монополистом внимания: за это борются платформы, соцсети, стримы. В ответ телевидение выбирает упрощение формата, потому что короткий, яркий клип с запоминающимся припевом легче распространяется. Но там, где нужен смысл, лайк не заменит глубокого разговора о культуре, и зритель всё чаще ощущает, что его просто развлекают, не вовлекая.
Четвёртый — речь о деградации экспертизы. Те, кто должен был формировать вкусы — музыкальные редакторы, драматурги, продюсеры новых форм — либо уволены, либо у них нет полномочий. На их место пришли менеджеры по повесткам, ориентированные на метрики, а не на творчество. В результате творческое руководство вынуждено подстраиваться под формулы: «что работает» — и это часто оборачивается шаблоном.
Но дело не только в механизмах. Это также вопрос отношения к зрителю. Телевизор перестал уважать аудиторию, считая её базой для статистики, а не партнёром по диалогу. Если зритель устал от однообразия — он пишет в соцсетях, отключает звук, переключает интернет-каналы. И всё же те же программы репетируют следующий сезон в надежде на прежние рецепты успеха. Почему? Потому что проще верить в волшебную формулу, чем слушать непредсказуемую и порой неудобную правду о вкусе людей.
И вот что ещё меня тревожит: через эту постоянную музыку теряется значение слова «событие». Когда всё — праздник, то ничто не интересно. Если каждое пятничное шоу — «звёздный дуэт», если каждое воскресенье — «концерт», то какому из них отдать сердце? Где место для тихой, но искренней программы, где обсуждают не хит-листы, а судьбы? Где документальный цикл о театральных закулисьях, где ученики и мастера говорят о ремесле, а не пробуют свои силы в караоке? Телевидение может быть и воспитателем, и истоком смысла — если кто-то осмелится рискнуть.
Что можно сделать? Конечно, я не предлагаю мгновенного чуда. Но можно начать с малого и вовсе не с реформ: вернуть в сетку передачи, где уважение к аудитории выше попытки заработать мгновенные рейтинги. Сделать программы, которые не стыдно пересмотреть через десять лет. Вернуть экспертов, вернуть редактуру, вернуть ценность откровения, а не лишь его визуальную оболочку.
Прошёл момент, когда телевидение было главным мифотворцем — теперь роль поделена. Это шанс: сделать вещание уникальным, предложить не привычные конкурса-форматы, а серию глубоких интервью, репортажей, расследований, репродукций спектаклей, документальных фильмов о жизни страны. Звучит пафосно, но истинная сила эфира — в его способности говорить, не крича при этом в микрофон.
И для рядового зрителя есть выбор, о котором он иногда забывает: не потреблять всё подряд. Переключать, отписываться, не смотреть то, что кажется фальшивым. Публичное молчание — это тоже голос. Если миллионы перестанут шаблонно кликать по «лайку», индустрия будет вынуждена адаптироваться. Говорю это не с позиции идеалиста, а с позиции человека, который видел, как формат меняется — и как он может меняться в лучшую сторону.
В заключение. Телевизор сошёл с ума — потому что он испугался тишины и принял решение заполнить её песней. Но музыка без смысла — лишь фон. Я не против песни как формы: я против того, чтобы пение стало заменой мыслительного процесса, против того, чтобы оно вытеснило разговор о культуре, о жизни, о людях. Хотелось бы, чтобы эфир перестал выглядеть как бесконечное «ну-ка, все вместе», и начал снова быть местом, где голос каждого важен не только потому, что он громко поёт, а потому что он говорит правду — пусть и тихо.
А вы замечали, что почти каждый уикенд — сплошное пение? Не пора ли задать крутому продюсеру вопрос: почему молчать нам страшнее, чем слушать? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях!
Если пропустили мою прошлую статью, пожалуйста, почитайте:
Удачи вам, всего доброго и до скорой встречи!